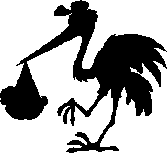 Конец купального
сезона
Конец купального
сезонаПлыть
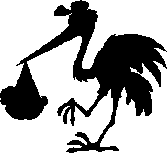 Конец купального
сезона
Конец купального
сезонаПлыть
Он любил романтику – одно время на первом курсе читал
Грина по ночам под зеленый чай и потом долго не мог заснуть, забываясь лишь под
утро; его тогдашние горячечные сны были смонтированы по гриновским чертежам.
На какое-то время он впустил в себя Грина, принял его
взгляд на жизнь, который видел вокруг лишь исключения из правил и искал
признаков другой жизни в обычном. Однако
рядом с Грином на полке лежали и другие книги, они были об этой стороне
экрана. Грин обладал способностью проходить.
Ощутив
себя в начинающейся любви, в облаке романтических чувств, он все же хотел бы уже
сегодня узнать о ее реальности. Он хотел равновесия на тонкой проволоке любви. Падать плохо –
хоть вправо, хоть влево.
К примеру, целина тоже была романтикой, но романтикой
прошлого. Приехали сумасшедшие энтузиасты и авантюристы, распахали поля и
построили поселки, дороги, фермы и уехали – после них осталось много работы,
которую уже некому было делать.
Теперь сюда приезжали бригады - поработать на лето или
заработать на уборке. И они ощущали некоторую романтичность изменения своих
обстоятельств, но приезжали прежде всего за деньгами. Чистая романтика их бы не
привлекла. Поэтому они работали с
утра до темноты с перерывами
на обед и ужин прямо на рабочей площадке, не на что другое не отвлекаясь. И так
просто обязана была выглядеть жизнь.
Но все же… Наташа была далеко, но он продолжал ее в
своих обстоятельствах. Тополь у их временного жилища - был знаком от нее. И воздух вечера - был от нее. И даже
говорливый и философски настроенный старик-немец, с которым он познакомился в
поселке и которого он называл про себя классическим немецким философом, тоже был
для Наташи. Внимательным взглядом
он видел кругом то, что понравилось бы Наташе, и будто говорил с ней об этом.
Но опять же: и тополь - был не только тополь. Его,
наверное, посадил кто-то из первых целинников, давно эту землю оставивший ради
Воронежа или Казани. Когда-то он был молод, строен и энергичен, он любил кого-то
из смелых целинных девах, а сейчас обрюзг и ходит пить пиво в соседний ларек,
набирая гривенники у благосклонной жены, на целине не бывавшей, но наслышанной с
избытком о похождениях супруга, довольной, что все для него позади, кроме
нескольких лет работы до пенсии, садового участка и внуков. А смелая деваха
- может, умерла? Их тополь, который
будто бы все помнил и знал, был величав и меланхоличен, храня о том
молчание.
Вечерний воздух был иной - он был еще тепел, но не
жгуч, он пах степью, он носился над этой землей день и ночь - был романтичен и
был реален.
Классический немецкий философ склонялся к вопросам
соединения человеческой природы с глобальными проблемами бытия. Его интересовало
соотношение проблемы смерти с целями и образом жизни. Он твердо защищал
пьянство, как способ обновления взгляда на жизнь, средство познания и противовес
обыденности и одновременно твердо критиковал его, как обыденную привычку и
потакание себе. Пить следовало каждый раз иначе, проводя эксперимент по общению
с собеседником.
Философ
говорил о необходимости относиться к женщине, как к физиологическому объекту, о
ее полной погруженности в физиологию, парадоксально упирая на ту же женщину, как
на единственный источник осмысленного начала в семейной жизни, всячески позоря
практику метафизически возвышенного мужского ума, который ни черта-то в жизни не
смыслит, если не принадлежит философу. Да и тот готов поддаться любой
иррациональной глупости, уж не говоря о том, что не способен создать логическое
начало своей жизни. Поэтому мужской ум подчиняется женским целям, и это лучшее
решение, которое он способен принять.
Его восхищение смертью, как основой религиозных чувств
и рассмотрение бога, как череды бесконечных открытий, доходило до афористически
простых формул: «Смерть - конечный приход к вере и умереть можно только с богом»
и «Талант есть бог, а вера - вечная учеба». Получалось, что только со смертью
человек открывал в себе настоящий талант.
Немец говорил о человеке, как о существе корпоративном
и тем защищенном от бога и дьявола, внося в рассмотрение эту его корпоративную
природу, как самостоятельную вещь. Семью он тоже считал корпораций, упирая на
союзы семейных пар. Он говорил, что когда друзья уговаривают холостяка жениться,
то предлагают ему войти в их союз, в котором смысл создают общность и разница
браков и это не только способ познания жизни, но что-то вроде скрытой религии.
Любовь же – лишь преддверие. В особый и индивидуальный путь человека он явно
верить хотел, потому что сам был одиночкой, но получалось, что, не будь
корпорация скрытой церковью, она уже и не может быть ничем, кроме хитиновой
оболочки, который пути препятствует. Выбор был – быть одному или быть в паутине
сотен связей.
Старик стремился расщепить Бога, говоря о его
многобытии и многоявленности, но центр единобожия держал твердо. Любовь была у
него слепком со всей его философии, хотя тут он начинал плести сложнейшие
словесные сети, в которых будто и не было прохода.
Бог дает нам любовь,- говорил он - но у любви -
крылья. Нам не удержать ее. Хочется летать, но не можем, но за желание будем
одарены. Зато аскеза - грех страшной гордыни, а женщина и мужчина - ближние
себе, и сказано - возлюби ближнего своего, как себя, себя – как его в себе. Бог
многолик и явлен многажды и открывая вокруг себя, открываешь Его, а что ты
можешь открыть, если не другие существа. И тут только талант и вера могут
помочь. Только открывая и учась, можно любовь возвысить, а мы склонны вознижать
в своей
глупости.
Тут он что-то вдруг понял и спросил старика – значит
ли это, что надо полюбить и чужих жен, и что другие могут полюбить твою жену?
Старик вдруг улыбнулся и сказал – не нужно, но так будет, если жить, а не
исполнять пьесу.
Он оскорбился представлением, что будет с кем-то
делить Наташу, и запротестовал. Старик улыбнулся, рассказал ему об
шарах-андрогинах, которые Зевс разбил
на неравные половинки – мужчин и женщин, обреченные на поиск своей пары и
сказал, что даже не совсем совпадающая пара все же имеет преимущество целого и
тем лучше одиночки, а потому
жениться надо. Даже мысли пар и то совершенней мыслей одиночек. Но никто
не может судить, где его линия раскола
и где это его единственное сочетание, пока не приблизится к иной половине
и не попробует пообщаться. Потом хмыкнул и сказал, что философия – тоже
женщина. И что у него с ней
получается лучше, чем с любой из бывших с ним женщин.
Старик был для него источником беспокойства мысли.
Хотя - вчерашний учитель физики и географии, позавчерашний метеоролог, нынешний
любитель дешевого коньяка, человек одинокий - что он был такое для раннего
московского утра и нежной девичьей кожи?
Был старым человеком,
который говорил, что спешит передумать свои мысли - раз не успел, то что-то
потерял. Но странным образом становилось понятно, что и ему, молодому человеку,
от этих выкладок не отделаться, и все имеет отношение не только к его
собственной жизни, но и девичьей коже и московскому утру.
Работа кончилась большой пьянкой, в которой все
открылись напоследок в оголтелых спорах, курении припасенных для этого вечера
гаванских сигар, и по ходу которой состоялась драка между главными фигурами
шабашки - бригадиром и мастером. На следующий день все вместе добрались до
Целинограда и, поскольку планы их были различны, незаметно разбежались в разные
стороны.
И вот он приехал в Москву, такую знакомую, но такую
саму не свою, как оно бывает после перерыва.
Он шел по городу, побритый свежим лезвием и пахнущий
«Арамисом» - счастливый и спокойный среди суетливых. Москва была не та, не та -
все в хитине, и только он с этим счастливо бьющимся сердцем. Горло саднило от
начала простуды. Он был в новом мире, и нов сам себе, и нова была где-то
неподалеку незнакомая Она - и свистали лезвия мира, и брякали его шестеренки, а
желтый лист летал над его заливом, где еще песок помнил их
следы.
Что можем мы об этом сказать? Начинается новая осень, совершено новая.
© 2002, Собиратель Историй sobiratel@seznam.cz